Такого города больше нет
Максим Метельников
Разговор о спектакле «Мой бедный Марат, или Одна абсолютно Ленинградская история» в Театре на Юго-Западе
Совсем недавно в Арт-Кафе Театра на Юго-Западе случилась премьера спектакля Максима Метельникова «Мой бедный Марат, или Одна абсолютно Ленинградская история».
Этот спектакль — большая история любви, боли и выживания в блокадном Ленинграде. В преддверии Дня Победы мы поговорили с Максимом Метельниковым о том, как создавался спектакль, почему именно сейчас важно рассказывать эту историю и что эта работа значит для него как режиссера.
Этот спектакль — большая история любви, боли и выживания в блокадном Ленинграде. В преддверии Дня Победы мы поговорили с Максимом Метельниковым о том, как создавался спектакль, почему именно сейчас важно рассказывать эту историю и что эта работа значит для него как режиссера.
— Начнем с коварного вопроса. Почему спектакль с темой блокады Ленинграда играется в Москве?
— Хороший вопрос. Если бы мне предложили поставить этот спектакль в Саратове, я бы поставил его в Саратове. Или в Волгограде. Да вообще где угодно. Почему? Потому что Ленинград — это единственный город, который пережил блокаду. Единственный по своей стержневой сути, выдержавший почти девятьсот дней этого ада. Такого города больше нет. И мне кажется, что в преддверии такой большой юбилейной даты важно говорить об этом. В любом городе России.
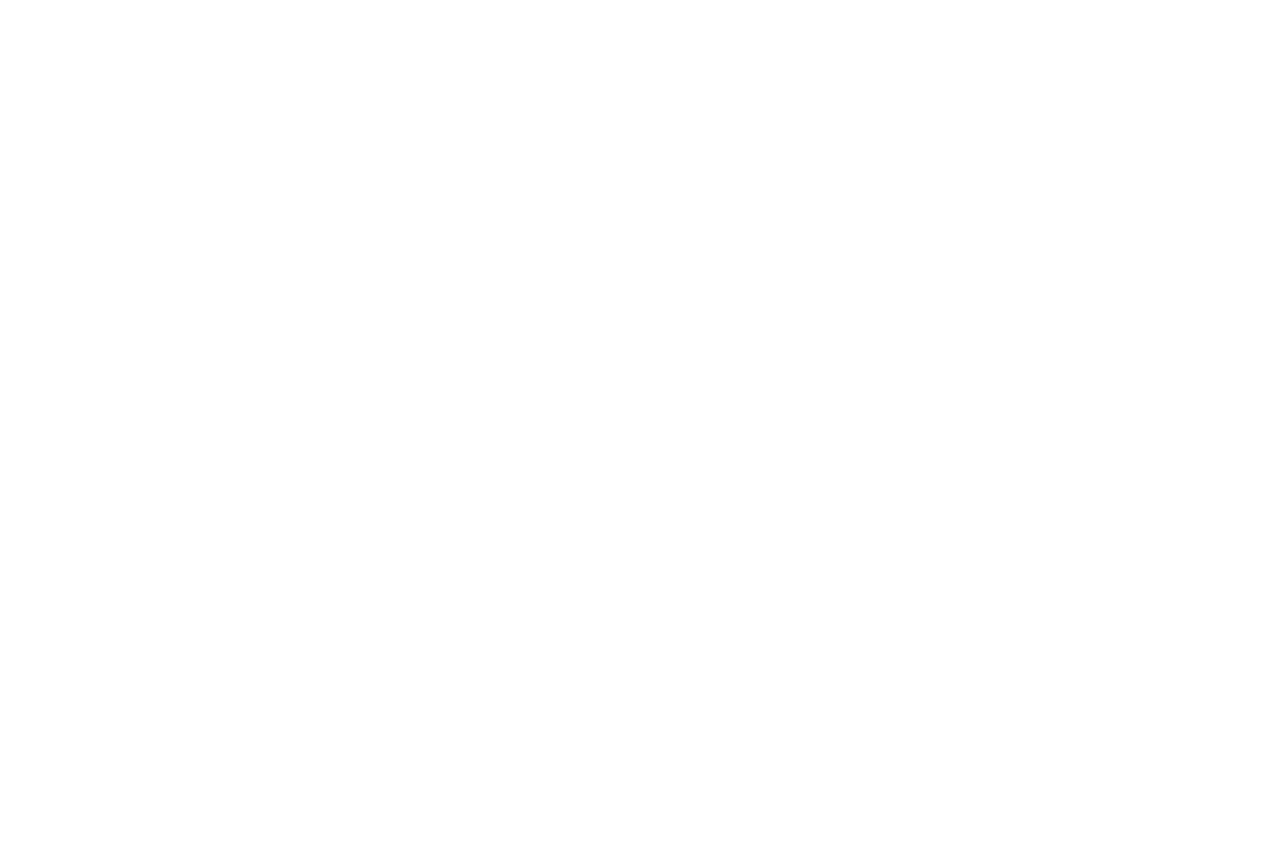
«Мой бедный Марат, или Одна абсолютно Ленинградская история»
— О чем этот спектакль для тебя как режиссера?
— О взрослении. За все время спектакля герои по сути проходят три этапа: 1942 год, 1946 год и 1959 год. За это время показано, как эти трое подростков — парням нет и восемнадцати, а девочке нет шестнадцати лет — взрослеют. Сначала в связи с войной, с блокадой им приходится резко стать взрослыми, но нутро все равно никуда не денешь — они так и остаются детьми где-то глубоко в душе. И это видно потом, когда они уже вырастают по-настоящему, но в душе остаются все теми же блокадными детьми. Это такая внутренняя травма, конфликт любовного треугольника. И через этот конфликт мы рассказываем их историю.
— Почему у спектакля двойное название?
— Для меня в это вообще заложен очень важный смысл. Во-первых, там есть слово «Ленинград». И в словосочетании «Ленинградская история» он написан с большой буквы. Потому что город здесь играет одну из главных ролей. Я, например, четыре года прожил в Петербурге. И могу сказать, что это город, который манит обратно. Он, впустив в себя однажды, не выпускает больше никогда. И в то же время может человека не принять. Это город с определенным характером. И, возвращаясь к названию, — в нем есть какая-то архаика. То, что кажется не очень актуальным и современным, но на самом деле все наоборот.
Ведь это очень простая история в страшное время. История про ребят, которые пытаются найти ответы на банальные вопросы — как жить, что такое счастье, а как любить? Как быть себе верным, но при этом не обижать ближнего своего? Они ищут, они ошибаются, они каются, пытаются что-то изменить. Так что для меня второе название, наверное, даже поважнее, чем «мой бедный Марат». Потому что первое название — это бренд. А второе — звучание нашего спектакля.
— Как публика восприняла спектакль?
— Знаешь, люди всегда очень настороженно относятся к военным спектаклям. Тем более когда спектакль поставил молодой режиссер. Я понимаю, что у них первая оценка это: «Ну схожу посмотрю. Не знаю, что он мне там новое расскажет». А у меня не было цели рассказать что-то новое. Мне хотелось сделать максимально открытый и честный спектакль. Рассказать эту историю так, как она может звучать сегодня. У нас нет экспериментов в плане формы, нет ничего вызывающего и авангардного. Все в канонах традиционного психологического театра. И мне кажется, в этом большой плюс спектакля. Ведь моя задача как режиссера стояла раскрыть актерские линии, а не искать новые формы.
— Как думаешь, зачем зрителям сейчас эта история, этот спектакль?
— Нам как людям важно понимать, чем гордиться. Понимать, кто мы. Помнить о подвиге со слезами на глазах. Мне посчастливилось пообщаться с еще живыми блокадниками, и это люди, которые неохотно рассказывают о том времени. Да, когда ты им задаешь вопросы, они отвечают, и удается что-то узнать. Но это те истории, о которых легче молчать. Поэтому и эта тема, и пьеса «Мой бедный Марат» мне была интересна как режиссеру. Ну и, я так думаю, для меня и моего поколения уже начинают подзабываться такие абсолютно очевидные, бытовые подвиги, как, например, выжить на эти блокадные 125 граммов хлеба. И то, это хлебом-то не назовешь.
А это только первый план всей истории.
А это только первый план всей истории.
— Тема блокады все же непростая и требует основательной подготовки. Как у вас это происходило?
— Когда мы только готовились, то изучали не только книги, фильмы, людей. Мы с ребятами, с компанией артистов, которые заняты в спектакле, ездили в Санкт-Петербург в музей обороны и блокады Ленинграда. Для того, чтобы, с одной стороны, подпитаться, а с другой — вдохновиться. Как мне кажется, для артиста важно понимать, чем играть. И намного правильнее, если есть четкое видение. Тогда подключается воображение, а это для меня вообще самое дорогое в работе.
— Как проходила работа над спектаклем?
— Так как все занятые артисты в спектакле — это мои коллеги, у нас была горизонтальная система. Кто-то что-то вкинул, где-то попробовали. Каждый не только для себя что-то думал, но и был вовлечен в работу другого. У нас даже было, что я только приходил, а ребята там уже репетировали, повторяли текст, осваивали рисунок, который мы сделали на прошлой репетиции. Мне было очень приятно.
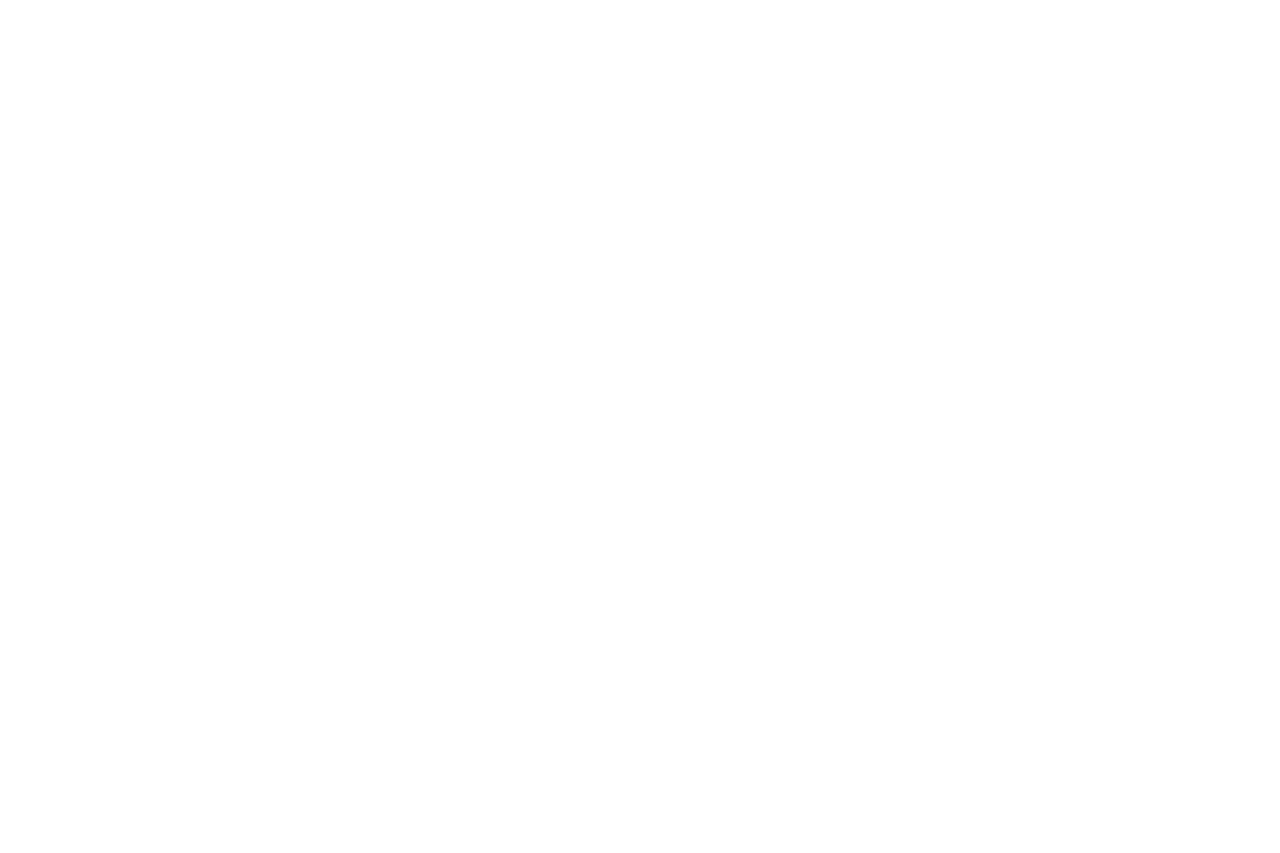
— Были какие-то истории, что артисты что-то принципиально отстаивали или привносили свое?
— Так как спектакль играется в Арт-Кафе, но идет два акта — для этой площадки история просто небывалая — я немного сокращал текст. Но артисты постоянно говорили: «Нет, давай вернем. Тут есть очень важный текст, я должен его сказать». В частности, это был Егор Базанов, который играет Леонидика — он у нас первый год в театре. Очень интересный и толковый парень. И хорошо с ролью справился. К слову, в спектакле принимают участие еще прекрасные артисты театра на Юго-Западе Егор Кучкаров (Марат) и Людмила Лазарева (Лика). Так что ансамбль в спектакле у нас очень гармоничный получился.
— Было в какой-то момент ощущение, что тема блокады становится слишком тяжелой? Что уже не хочется об этом говорить, и становится страшно?
— Знаешь, наоборот. Чем больше мы репетировали, тем больше я влюблялся в пьесу. Когда ты только берешь текст в руки, тебе хочется его менять. Потому что ты с ним еще не свыкся, ты хочешь его подмять под себя. А вот с Арбузовым так вообще не получалось. Даже те куски, которые я думал переставить местами, подсократить… нет, не вышло. В пьесе все четко, друг за другом. Что эти фразы должны звучать именно в таком порядке и их нельзя вынимать. Так что на сцене звучит практически оригинальный текст.
— Для кого этот спектакль?
— Как мне кажется, сегодня важно говорить о таких героических и абсолютно трагических событиях, как блокада Ленинграда. И московской молодежи важно сходить на этот спектакль. Я вот даже отвоевал у администрации театра, чтобы спектакль был 12+. Потому что такие истории важно знать и взрослым, и подросткам.
Интервьюер: Марго Мурадян
Фото: Анастасия Журавлева
