Учебный театр ММУ
«Класс-концерт»
Необыкновенный танцкласс
Режиссёр — Юрий Муравицкий
Учебный театр Московского международного университета работает только второй сезон, но уже заработал добрую репутацию; как минимум тем, что под зрительское пространство приспособлен помпезный актовый зал бывшей Московской партийной школы, по вместимости превосходящий тесные аудитории ГИТИСа минимум впятеро. Но от духоты свободны и зал, и сцена.
«Вакханки» Еврипида, которыми учебный театр открылся год назад, заставили многих говорить, что в Москве под руководством Юрия Муравицкого появилась мощная тренировочная площадка для будущих артистов игрового театра. Пятничный класс-концерт подтвердил, что эти комплименты были не преждевременными.
«Вакханки» Еврипида, которыми учебный театр открылся год назад, заставили многих говорить, что в Москве под руководством Юрия Муравицкого появилась мощная тренировочная площадка для будущих артистов игрового театра. Пятничный класс-концерт подтвердил, что эти комплименты были не преждевременными.
«Демонстрация успехов» продолжалась два часа, и успехи студентов ММУ были разделены по учебным предметам: движение, танец, вокал, сценическая речь. Звучащий за кадром ироничный и меткий конферансье объявлял представляемый предмет, артистов — и педагогов, создававших или помогавших создавать отобранные для концерта номера. Это очень благородный ход, который позволил вывести из тени тех, кто по сути формирует будущих актёров, и, более того, обеспечил посторонним зрителям интересное упражнение: попытаться найти в этюдах каждого тренера индивидуальный почерк.
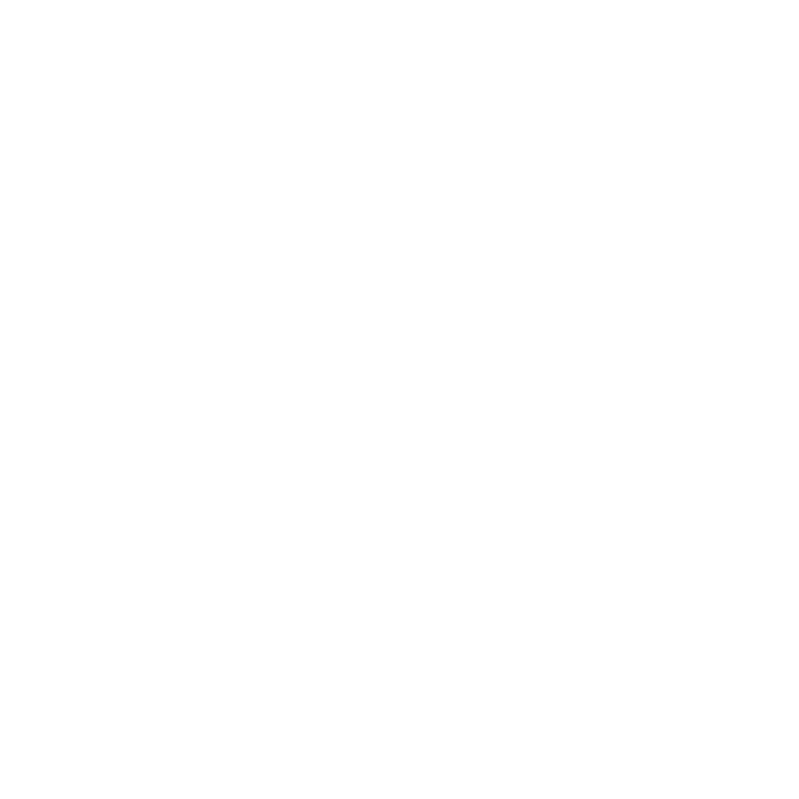
Больше всего вопросов, наверное, вызвали этюды по сценической речи, построенные по классической модели: чтение стихотворения перед микрофоном. Эти выступления, несмотря на прекрасный подбор материала («Гиена» Гумилёва, фрагменты из поэмы Ахматовой «У синего моря»), не позволили раскрыться чтецам и были как будто лишены внутренней драматургии. Приятное исключение составило выступление Полины Симоненко с фрагментом из «Тамбовской казначейши»: получилось классно, с меланхоличным озорством, Полина сочетала яркие гротескные интонации и личное обаяние, заставив вспомнить лучшие женские роли в спектаклях Римаса Туминаса.
Из певческой программы был исключен эстрадный вокал, номера представляли собой фольклор народов мира, в основном в хоровом исполнении. Но харизма исполнителей и ощущаемый сценический азарт чувствовались даже в номерах на основе сербской и португальской песен — с непонятным для зрителя сюжетом. Растормошил зал хоровой номер на песню казаков-некрасовцев о цыганке: насладиться понятным текстом, однако, удалось недолго, потому что бурный актёрский интерактив увлёк первые ряды на сцену, где многие танцоры поневоле, отходя от света прожекторов, смогли понять, как это, быть на сцене: «Все тебя видят, а ты — никого». На ура был принят и сольный номер единственного парня из выступавших, Булата Гулгенова с бурятской народной песней: он уже расположил к этому моменту зал танцевальными этюдами, и музыка его (предполагаемой) родины встретила тёплый отклик.
Больше всего студенты Муравицкого впечатлили пластической и танцевальной программой — она включала множество остроумных этюдов с неочевидными сюжетными решениями. Особенно запомнились парные этюды с участием Булата Гулгенова. Например, номер по движению «Фехтование» — дуэт мужчины и женщины, поданный как любовный поединок. Сделан он необычно, держит в напряжении из-за неочевидного финала, в нём артисты показали не только пластические умения, но и прекрасную физическую подготовку, почти атлетическую форму. Другой парный, вполне любовный номер с участием Екатерины Чермошенцевой основан на романе Федерико Андахази «Танцующий с тенью», и, играя с шаблонами классического танго, артисты изящно выходят за пределы дозволенного… в этом жанре. Очень ярким получился этюд «Зумеры» — первоклассный акробатический брит-поп под «Невесту» Ильи Лагутенко.
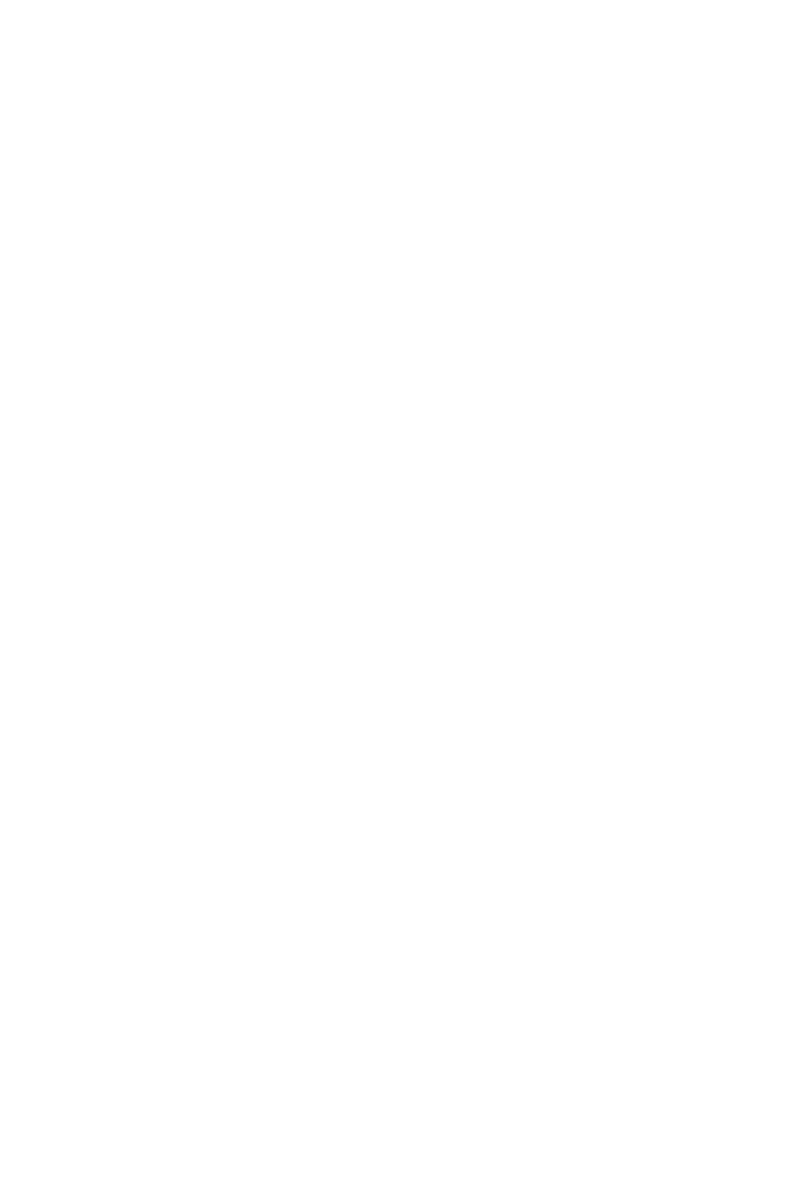
Безжалостная гендерная статистика этого актёрского курса («на десять девчонок» всего два парня) имеет позитивные последствия: напряжённые, динамичные парные номера «для двух девушек» насытили программу. Нашлось место и боевому эпизоду (по мотивам «Бойцовского клуба»), и футуристичному этюду по мотивам «Туманности Андромеды»: отображая конкретный эпизод из романа Ефремова, выступление в "космическом театре", артистки воплотили в танце утопические идеи великого фантаста о межзвёздном коммунистическом братстве. Совершенно прекрасен был заключительный для концерта этюд «Двойник» (Валентина Кузнецова и Екатерина Чермошенцева) с отчётливой философской фабулой: борьба в человеке разных личностей и поглощение одной другим, растворение борца в некогда общей для двух личностей тканевой оболочке.
Особенно зацепил сольный номер Дины Максимовой по мотивам цикла рисунков Бёрдсли «Саломея». В её персонаже, по-детски легко играющем с головой Иоканаана (даже надевающем её себе на ногу) трудно узнать дочку Ирода, скорее, это непослушная, любящая проказы девочка, древнееврейская Пеппи Длинныйчулок, нашедшая кровавый выход своей невинной энергии. Но за несколько минут номера её Саломея проходит душевную эволюцию, взросление, и детская игривая жестокость переходит в любовное чувство к убитому Иоканаану, с точкой в виде не по-библейски и не по-декадентски скромного поцелуя.
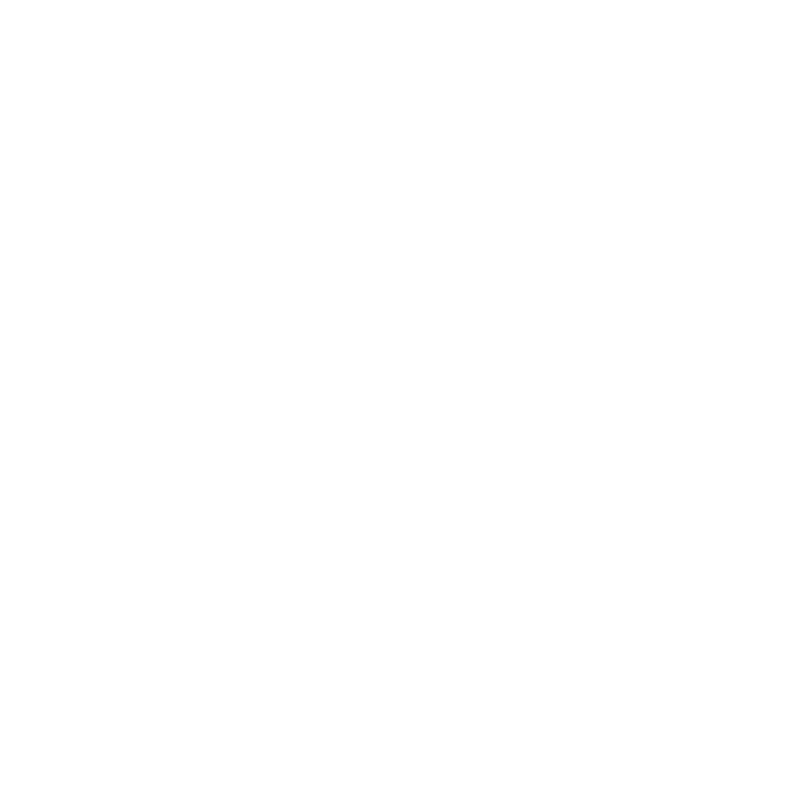
Очаровательные ансамблевые номера закрепили крайне позитивное впечатление о подопечных Муравицкого. Меланхоличный номер-открытие, метафорически передающий «сутки страны нимф», от подъёма до отхода ко сну сразу задал высокую планку, и планка эта держалась. Многого стоят такие хореографические этюды, как «Во поле берёзка стояла», где шуточная простонародная интонация в движениях, с косынками и туниками-понёвами, сочетается с точечными оммажами Пине Бауш. Больше всего аудиторию взбудоражил «кабаретный» номер «Мулен-руж», причём больше всего зрительниц, а не зрителей — но при всей эффектности это был скорее классический бурлеск.
Редко выходишь из учебных театров с таким хорошим впечатлением: «класс-концерт» стал не сборной солянкой номеров (на что имел право по природе жанра), а без оговорок цельным каскадом эпизодов, скреплённых иронией, широким кругозором в выборе тем и сюжетов, концептуальным мышлением педагогов и, конечно, мастерством вполне сформировавшихся актёров.
Автор: Артур Новик
Фото: Пресс-служба театра
Фото: Пресс-служба театра
