Театральный проект Григория Гофмана
«Человек живет…»
Древнерусская горница в центре Москвы
Режиссёр — Григорий Гофман
Спектакль «Человек живет» режиссера Григория Гофмана — это не просто постановка, а глубокое погружение в саму суть человеческого бытия с помощью музыки, тишины, древних обрядов и универсального языка эмоций. Вместе с автором идеи Ириной Смурыгиной-Терлицки они максимально точно воссоздали симбиоз культур мира. Зритель с первых минут становится не просто наблюдателем, а частью большого действа. Это тот редкий случай, когда театр говорит о вечном просто и пронзительно, задевая за живое любого человека.
Спектакль «Человек живет» режиссера Григория Гофмана — это не просто постановка, а глубокое погружение в саму суть человеческого бытия с помощью музыки, тишины, древних обрядов и универсального языка эмоций. Вместе с автором идеи Ириной Смурыгиной-Терлицки они максимально точно воссоздали симбиоз культур мира. Зритель с первых минут становится не просто наблюдателем, а частью большого действа. Это тот редкий случай, когда театр говорит о вечном просто и пронзительно, задевая за живое любого человека.
В начале было слово. И слово было…
Актеры уже переодеты в народные костюмы, звучит умиротворяющая музыка, сотканная из природных звуков, и фольклорный текст. Режиссер Григорий Гофман помогает зрителям найти места. И это все задолго до основного действия.
Все настраивает на атмосферу старого дома, горницы, где все сидят за одним столом. Все зрители как родственники. Очень дальние, но ни у кого из присутствующих нет такого ощущения, что рядом сидящий — это чужак. Кто-то стоит отчужденно, кто-то разговаривает и смеется. Но благодаря актерам, предлагающим воду, режиссеру, который старается уделить время каждому, общей обстановке появляется маленькая деревня.
Такого не хватает в современном театре. Порой в фойе стоит гнетущая атмосфера, а здесь этого нет. Тема спектакля о человеке продиктовала и условия.
Все настраивает на атмосферу старого дома, горницы, где все сидят за одним столом. Все зрители как родственники. Очень дальние, но ни у кого из присутствующих нет такого ощущения, что рядом сидящий — это чужак. Кто-то стоит отчужденно, кто-то разговаривает и смеется. Но благодаря актерам, предлагающим воду, режиссеру, который старается уделить время каждому, общей обстановке появляется маленькая деревня.
Такого не хватает в современном театре. Порой в фойе стоит гнетущая атмосфера, а здесь этого нет. Тема спектакля о человеке продиктовала и условия.
Настоящим же началом является распевка актеров и музыкантов во главе с режиссером. Все вместе они встают в круг и сливаются в унисон. Происходит сплочение коллектива: не каждый на сцене — профессиональный актер, не каждый хочет петь. Но никто не осудит, не скажет плохого слова, ведь даже молчание ценно. Важно уметь молчать вместе.
Распевка погружает в транс, который будет только нарастать по ходу действия. Живая музыка, пение без микрофонов проникают во все клеточки души и тела. Зритель может ощутить вибрацию барабана, виолончели, скрипки и голоса. Акустика помещения позволяет прочувствовать это без лишнего эха. Только чистый звук там, где он есть. Где же есть тишина — она оглушает. Весь спектакль — это трехчастная симфония с пением молодых людей, танцем и бытовой философией о простом.
Распевка погружает в транс, который будет только нарастать по ходу действия. Живая музыка, пение без микрофонов проникают во все клеточки души и тела. Зритель может ощутить вибрацию барабана, виолончели, скрипки и голоса. Акустика помещения позволяет прочувствовать это без лишнего эха. Только чистый звук там, где он есть. Где же есть тишина — она оглушает. Весь спектакль — это трехчастная симфония с пением молодых людей, танцем и бытовой философией о простом.
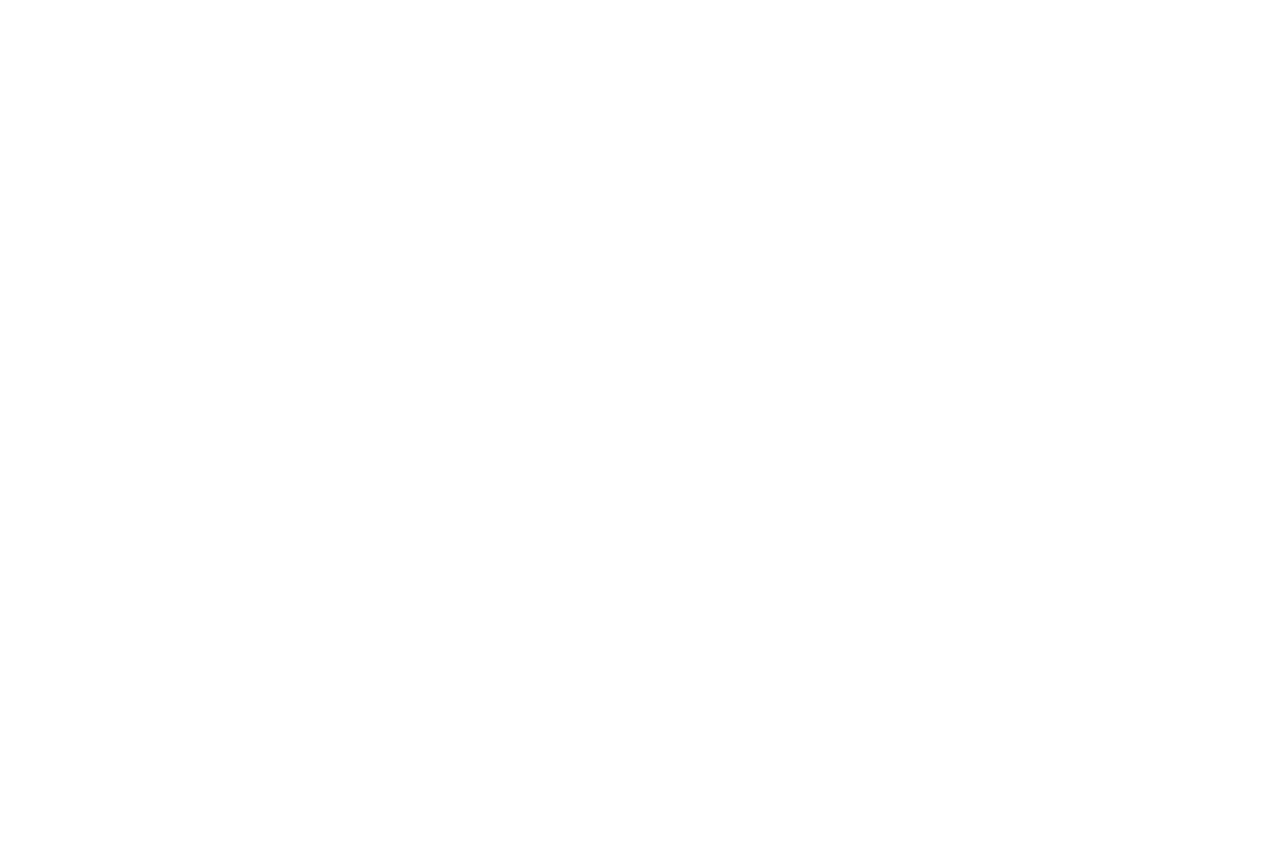
Не актеры подчиняются пространству, а пространство — актерам. Во время действия они спускаются вниз со сцены, убегая прочь в зрительный зал, переходят с одного края на другой. Неожиданным оказывается, что и режиссер включен в процесс полностью. Он тоже становится частью представления, но в темных местах и слепых зонах. Громкий глас из тени — это голос чего-то неизвестного, неизведанной тропы в лес.
Спектакль — это одна большая аллегория на мир. Мир как все существующее, как многокультурность и как доброта между людьми. В нем живет человек, растет, влюбляется, теряется, снова находит себя и умирает. Это жизненный цикл, не злой рок, хоть от исхода не скрыться.
«Человек живет, как трава растет»
Спектакль — это одна большая аллегория на мир. Мир как все существующее, как многокультурность и как доброта между людьми. В нем живет человек, растет, влюбляется, теряется, снова находит себя и умирает. Это жизненный цикл, не злой рок, хоть от исхода не скрыться.
«Человек живет, как трава растет»
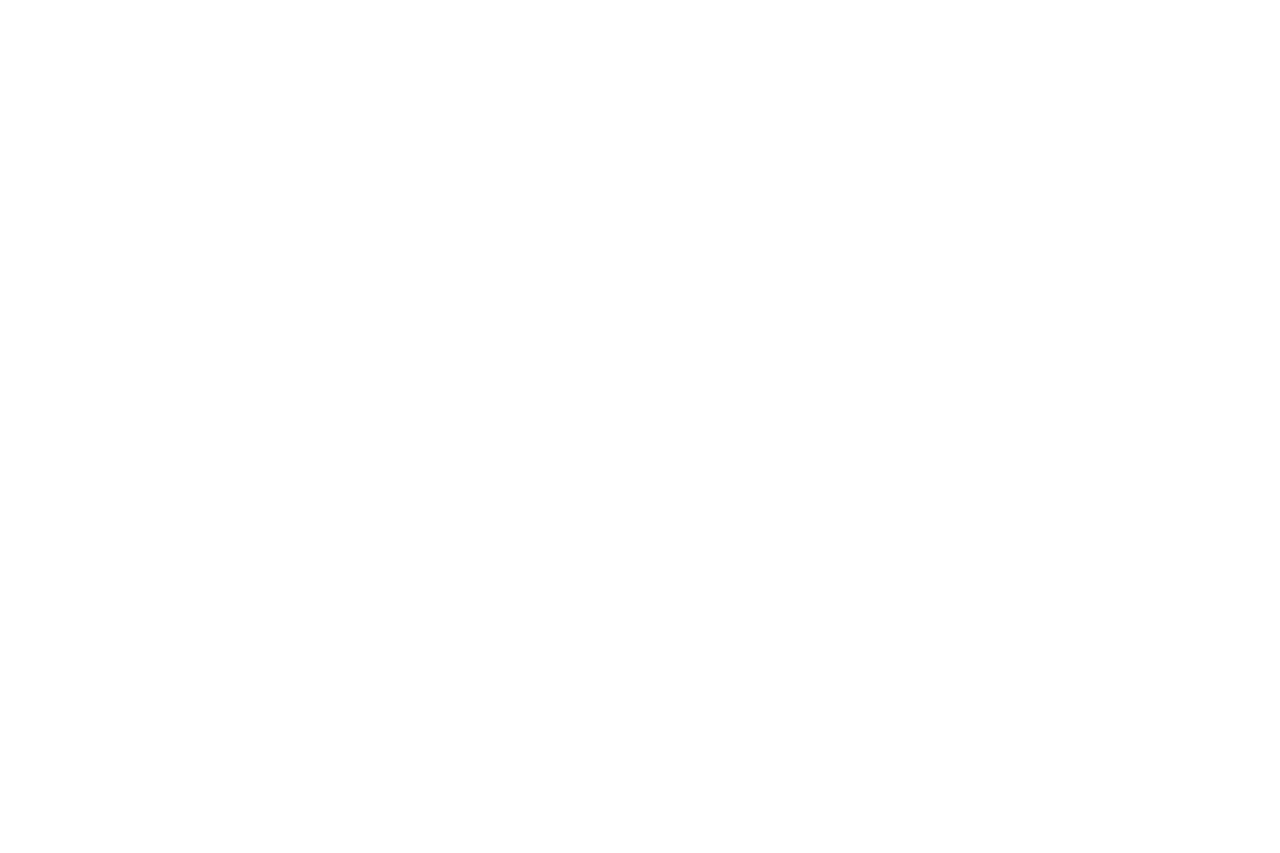
Жизненный цикл начинается с появления света. Мать-природа, солнце, в лице актрисы Анны Швол появляется на сцене с настоящей свечой. Она несет не только свет, но и плод под сердцем — вечная беременность, бесконечное рождение живых существ. Ей тяжело идти с такой ношей: на лице усталость, руки обмякшие. Но они держат свечу в знак того, что ничто не сломит любовь к собственным творениям. Свет никогда не погаснет.
Роль матери сложна сама по себе. Анна же играет мать, которая следит за своим чадом, но близко к себе не подпускает, с болью отталкивает от себя. Почему же так происходит, если это несправедливо? Это нужно. Каждое существо рано или поздно вылетает из семейного гнезда, обретая независимость. И после этого наступает череда ошибок и боли, но вместе с этим и очищение.
Ее первое дитя — человек, познающий мир, которого играет Сергей Синодов. Он искренен в своих чувствах, в нем только свет доброты. Но в начале на него накладывают условие существования в мире. Это безмолвие. За всю «жизнь» он не произносит ни слова. На сцене этот символ непорочности считывается по гриму мима. Сергей накладывает его в полутьме, при свете свечи.
Роль матери сложна сама по себе. Анна же играет мать, которая следит за своим чадом, но близко к себе не подпускает, с болью отталкивает от себя. Почему же так происходит, если это несправедливо? Это нужно. Каждое существо рано или поздно вылетает из семейного гнезда, обретая независимость. И после этого наступает череда ошибок и боли, но вместе с этим и очищение.
Ее первое дитя — человек, познающий мир, которого играет Сергей Синодов. Он искренен в своих чувствах, в нем только свет доброты. Но в начале на него накладывают условие существования в мире. Это безмолвие. За всю «жизнь» он не произносит ни слова. На сцене этот символ непорочности считывается по гриму мима. Сергей накладывает его в полутьме, при свете свечи.
Важно отметить, что Сергей — не обычный актёр пантомимы, а человек с огромной историей за плечами и богатым жизненным опытом. Его жизнь — это часть спектакля. Его безмолвие на сцене обусловлено глухотой, а его естественные, точные движения в рамках сюжета — глубокой насмотренностью и наблюдением за разными людьми. Это профессионал с большой буквы. На протяжении всех трех действий он удерживает внимание на себе, даже когда его герой скрыт за другими персонажами. Все это время он молчит, но его взгляд и мимика говорят красноречивее долгого монолога, громче крика и убедительнее речей древнегреческого оратора. Зритель вместе с ним радуется и чувствует его душевную боль.
И после рождения происходит рождение новых людей, поющих «Голубиную книгу». Этот духовный стих без рифмы — один из древнейших фольклорных текстов. Его рассказывали слепцы, переходя из дома в дом, сохраняя в себе старообрядческие традиции. Книга голубиная, потому что упала с небес на землю, она глубинная, потому что в ней рассказывается про зарождение мира. И это рождение метафорически показывается выходом на сцену из тьмы. Все актеры быстрым шагом, как бы торопясь появиться на свет, идут к его источнику.
На сцене они собираются в круговой танец, относящийся к северной традиции. Одна из особенностей такого танца — опущенные руки. Они символизируют привязку к земле, которая кормит. К северному региону относится и произношение слов, например, оканье. Интересно, что в этот момент Солнце не в середине сцены.
На сцене они собираются в круговой танец, относящийся к северной традиции. Одна из особенностей такого танца — опущенные руки. Они символизируют привязку к земле, которая кормит. К северному региону относится и произношение слов, например, оканье. Интересно, что в этот момент Солнце не в середине сцены.
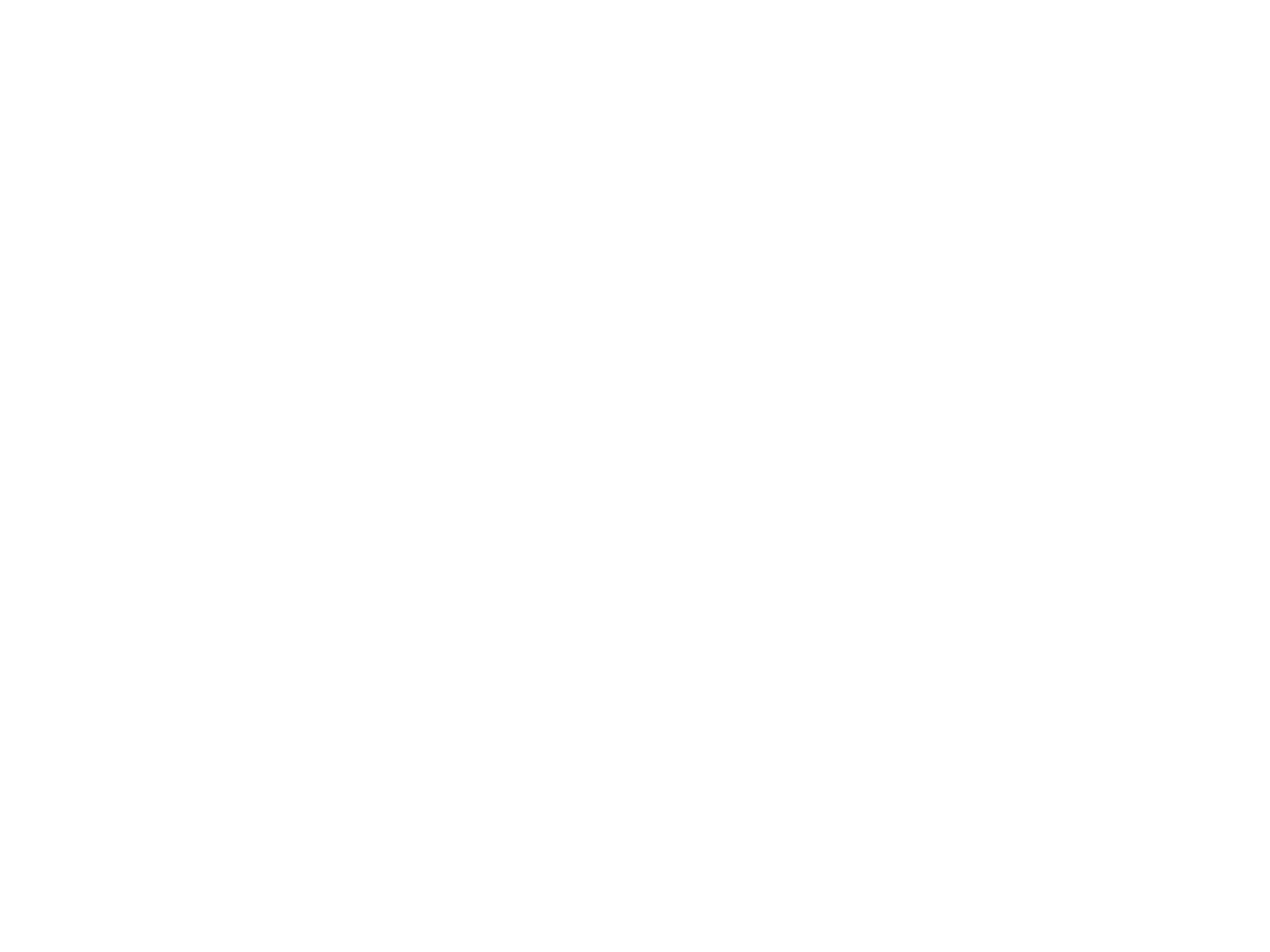
Первое действие спектакля оказывается проводником во времена язычества с переходом в раннее христианство. Первые люди учат друг друга слову, заботятся друг о друге, не волнуются по пустякам. Смерть в маленькой общине не страшна, ведь это естественный процесс. Через песни раскрывается быт и отношение к ближнему: во время периода сбора мака народ заглядывает к куме, отгоняя смерть дальше. Кума — это, конечно же, мать-природа, о которой беспокоятся ее дети.
В этот момент на актерах традиционные славянские костюмы, без привязки к региону, как бы объединяющие всех. Танец меняется, становится больше похожим на южную традицию. Оканье пропадает, на его месте появляется яканье, характерное для южных регионов.
Смена эпох показана через резкий контраст: светлый фон становится черным, солнце-колесо — луной-барабаном. Яркую открытую одежду сменяет серая и закрытая. Коллективный танец и общие песни исчезают, уступая место индивидуальному страданию и уходу в себя. Мир преображается до неузнаваемости, но источники человеческих мук остаются неизменными.
«А на горе мак, под горою так» (красота и достаток) сменяется на «Ой, беда, беда, беда. В огороде лебеда» (духовная бедность и мнимые проблемы). Меняются и социальные роли: женщины становятся сильнее и независимее, мужчины — жёстче и черствее.
В этот момент на актерах традиционные славянские костюмы, без привязки к региону, как бы объединяющие всех. Танец меняется, становится больше похожим на южную традицию. Оканье пропадает, на его месте появляется яканье, характерное для южных регионов.
Смена эпох показана через резкий контраст: светлый фон становится черным, солнце-колесо — луной-барабаном. Яркую открытую одежду сменяет серая и закрытая. Коллективный танец и общие песни исчезают, уступая место индивидуальному страданию и уходу в себя. Мир преображается до неузнаваемости, но источники человеческих мук остаются неизменными.
«А на горе мак, под горою так» (красота и достаток) сменяется на «Ой, беда, беда, беда. В огороде лебеда» (духовная бедность и мнимые проблемы). Меняются и социальные роли: женщины становятся сильнее и независимее, мужчины — жёстче и черствее.
Персонажи нисходят до звукоподражания и пугают первого ребенка матери-природы. Он не понимает, что происходит, почему никто не обращает на него внимания. Люди развращены, не видят спасителя, который желает их понять. Закрывают лицо маской из деревянных ковшей для зерна. Ребенок подстраивается под них, но теряет себя.
Чадо признает, что мир — это не красный угол, а злое место, где нет места добру от ближнего.
Весь спектакль — это работа с культурными традициями разных стран. Славянские мотивы смешиваются с текстами Лорки и Элиота, накладываясь на музыку Бетховена. Это сделано неспроста. Мир един и одинаков для всех; все должны жить вместе. Культура одного народа со временем может органично соединяться с культурой другого. В спектакле это особенно заметно в костюмах и в том, как актеры с ними взаимодействуют. Восток соединяется с Европой, северное — с южным. Здесь есть и место философии разных культур (те же произведения с разными смыслами).
Чадо признает, что мир — это не красный угол, а злое место, где нет места добру от ближнего.
Весь спектакль — это работа с культурными традициями разных стран. Славянские мотивы смешиваются с текстами Лорки и Элиота, накладываясь на музыку Бетховена. Это сделано неспроста. Мир един и одинаков для всех; все должны жить вместе. Культура одного народа со временем может органично соединяться с культурой другого. В спектакле это особенно заметно в костюмах и в том, как актеры с ними взаимодействуют. Восток соединяется с Европой, северное — с южным. Здесь есть и место философии разных культур (те же произведения с разными смыслами).
Помимо культурной насмотренности, философских и бытовых подтекстов, в спектакле есть еще кое-что, что объединяет всех в мире. В постановке нашлось место для всех стихий. Огонь-прародитель, он же то, что завершает жизненный цикл — это свеча в руках Природы. Воздухом становится пение, дыхание актеров и зрителей. Земля завуалирована в масках-ковшах, которые соприкасались с зерном, растущим из почвы. Вода же смывает проклятье первого человека, его первородный грех, обращая его к свету.
В каждой культуре существуют свои непреложные истины, и проблемы, поднимаемые в спектакле, оказываются знакомы и близки каждому человеку. Порой зритель может не понять слов, звучащих на чужом языке, но через эмоции актеров, пластику их движений все становится ясным. «Человек живет» — это спектакль о душе, о любви и о человечности.
Внешняя оболочка может быть хрупкой, жизненные ориентиры — рухнуть, а путь — оказаться полным трудностей. Но важно, что рядом всегда могут оказаться те, кому не всё равно. Да, иногда помощь приходит с противоположной стороны планеты, порой для этого нужен особый подход, но эти люди обязательно найдутся.
В каждой культуре существуют свои непреложные истины, и проблемы, поднимаемые в спектакле, оказываются знакомы и близки каждому человеку. Порой зритель может не понять слов, звучащих на чужом языке, но через эмоции актеров, пластику их движений все становится ясным. «Человек живет» — это спектакль о душе, о любви и о человечности.
Внешняя оболочка может быть хрупкой, жизненные ориентиры — рухнуть, а путь — оказаться полным трудностей. Но важно, что рядом всегда могут оказаться те, кому не всё равно. Да, иногда помощь приходит с противоположной стороны планеты, порой для этого нужен особый подход, но эти люди обязательно найдутся.
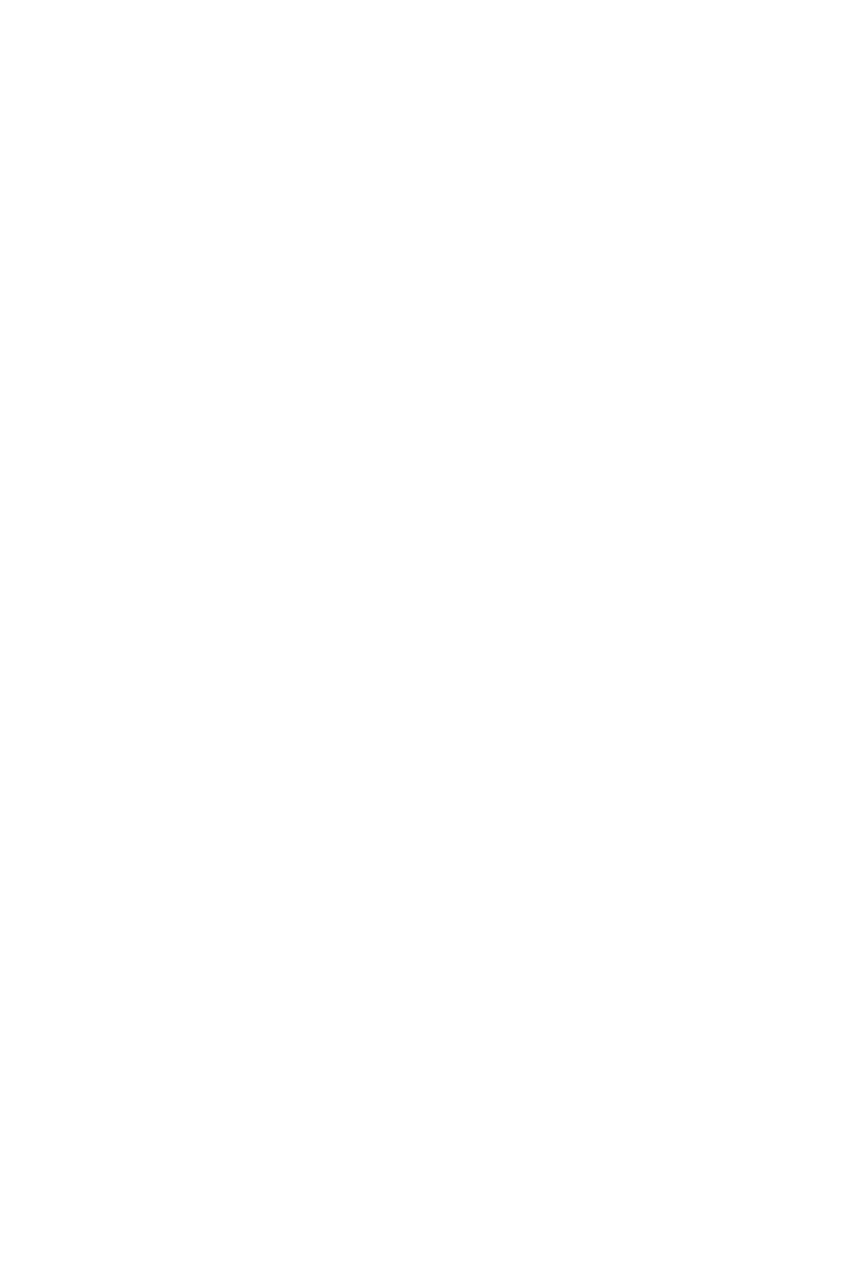
После спектакля зрители выходят из зала с ощущением легкости и причастности к чему-то большему, с чувством, что их услышали и поняли. В этот короткий промежуток времени каждый остро ощущает, что светлое будущее возможно, а добро никогда не исчезнет.
Редактор: Олес Морова
Фото: Пресс-служба театра
Фото: Пресс-служба театра
